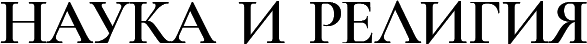В предыдущих статьях я постарался дать понятие о городе не как о мозоли на теле цивилизации, но как о первичном центре ремёсел и торговли, а затем госуправления
и промышленного производства, средоточия военной и финансовой мощи. Футуристические «Хроники хищных городов» с отличной идеей-завязкой, но простенькой фабулой рисуют мегаполисы мобильными и в метафизическом смысле – безродными скитальцами по изуродованной их мегалитическими гусеницами поверхности планеты, и в принципе подобный взгляд не слишком далёк от истины. Необходимость массовых поселений некогда диктовалась именно способом производства – ручным. При широком вводе в обращение полностью автоматизированных производств нужда в компактном проживании миллионов человеческих особей отпадает. Автоматизация не Господь Бог, но средство как минимум достижения свободы от ручного труда. Можно сказать, что свою Вавилонскую башню в виде прорыва в космос человечество в очередной раз построило, и, если очередной передел мира даст возможность избежать ядерной войны, впереди у всех нас – расселение городов и весьма распределённое бытие.
Автор материала: Сергей Арутюнов
Кризис урбанистического сознания основывается на двух встречных и непримиримых потоках – желании дать среднему человеку максимальный комфорт и понимании того, что абсолют недостижим. Можно разместить в каждом жилом и нежилом строении по пять-семь предприятий торговли и услуг, но к революционному изменению качества жизни подобная мера привести не способна. Сегодня турбоурбанизация грозит всей современной цивилизации бессмысленной концентрацией человеческих ресурсов в мегаполисах. Осознать «масштабы бедствия» возможно с тремя следующими тезисами:
– цивилизации городского типа представляют собой феномены, интегративный и синергетический ресурс которых сегодня, в постиндустриальную эру и с массовым распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), исчерпан,
– дальнейшая концентрация населения в мегаполисах прямо угрожает национальной безопасности и в плане лёгкости наведения на мегаполисы средств массового поражения, и в отношении медицинских показателей концентрированности: эпидемии и пандемии постоянно мутирующих вирусов, созданных в том числе искусственно и соответствующим образом модернизированных, становятся обыденностью,
– надобности в общежитии с миллионами соотечественников больше не наблюдается – напротив, эффективное производство интеллектуальных продуктов прямо зависит от в разы более, чем сегодняшний мегаполис, распределённой среды обитания, дающей несравненно более широкие возможности свободного научно-технического и гуманитарного конструирования и воплощения идей.
Трагедии вынужденных переселенцев столетней давности ещё в генетической памяти. Крестьян времён Столыпина манили земля и воля, но что может увести современного человека из Москвы или Екатеринбурга, какой именно соблазн? Думается, что – родового гнезда. Мы уже которое десятилетие в связи с постоянными социальными бурями и перманентным жилищным кризисом лишены не только «библиотек» и «кабинетов», но семейных архивов, предания, которое могло бы передаваться не только из уст в уста. Отсюда сдавленный ещё секретностью или неполнотой архивов интерес к генеалогии, поиск самых отрывочных данных о предках. Так нельзя ли основать гнёзда заново, рассчитывая на то, что когда-нибудь в старых, видевших несколько поколений стенах заведутся свои и радостные, и печальные призраки? Я уже даже не говорю о возрождении домашних молелен, однако неужели мы так стиснуты нищетой, что они – атрибут всего трети примерно процента наших сограждан богатейшего класса, относительно недавно основавшего себя в загородных особняках?
Сегодняшние проблемы с рождаемостью (один ребёнок или вообще ноль детей) у горожан возникают именно вследствие того, что сам городской образ жизни воспринимается как заведомая неволя, цинично притворяющаяся свободой самовыражения каждого. Даже городская многодетность в избранных случаях выступает как протестная, направленная на пробуждение у властей и совести, и порядочности в едином чаянии «улучшения жилищных условий».
Абсолютный монополист жилья, мегаполис дошёл до того, что предлагает человеку в течение двадцати или двадцати пяти лет работать на выплату долга за собственный дом – фактически, бетонную коробку, которую он обставляет сам. В провинции и трети этих денег могло бы хватить на куда более значительный метраж. Отчего же, несмотря на очевидную невыгодность подобных сделок, поток приезжих только разрастается? Причина одна: люди едут в крупные города с территорий, которые обездолены и заброшены и в экономическом, и в бытийном смысле. Мегаполисы действительно хищны: вот уже более столетия в России они высасывают провинции до последнего трудоспособного человека, плодя мёртвые деревни и опустевшие малые города, не могущие противиться «экономической логике», состоящей в игре «в спрос и предложение», а проще говоря – в спекуляцию человеческим капиталом. В гуманитарном смысле крупными городами порождена совершенно особенная и на сегодняшний день выдающаяся культура, однако дальнейшее её развитие сопряжено с усугублением чувства «одиночества в толпе», прямым психологическим давлением городского ландшафта на сознание индивидуумов, настоящим информационным террором производителей товаров и услуг.
Каким будет исход из урбанистического лабиринта, покажет время, но пока можно констатировать, что обилие прямых линий и углов, из которых мегаполис, в сущности, и состоит, представляют собой скорее результат битвы за дешевизну массовой застройки, нежели заботу об эффективном и эстетическом размещении огромных масс людей. И здесь придётся рассуждать о двух понятийных рядах двух цивилизаций и, соответственно, двух векторах сознания.
Но куда расселять, не в чистое же поле? Разумеется, почву следует готовить, однако не в виде коттеджных посёлков, а в духе компактных жилых массивов, связанных друг с другом основными и резервными как подземными и полуподземными, так и наземными магистралями. «Горизонтальное размещение» десятков миллионов людей не будет представлять сложности, если помнить о том, что должны представлять собой духовные основания расселения – ощущение своего дома, а не беспрестанного передвижения в «общественном пространстве» то «на работу», то «с работы» с кратким отдыхом на ночь в «спальном районе».
Культура предместья, которую России только предстоит освоить и пустить массовый в оборот, – это, собственно, основа жизни тех же Соединённых Штатов («одноэтажной Америки»), а чуть ранее – основной компонент европейского образа жизни («двухэтажной Англии»). В основе типового проекта поселения будущего – его профиль (естественнонаучный, гуманитарный), именно от него зависит общий архитектурный модуль, внешний и внутренний вид зданий. В социально-профессиональном смысле поколения, вырастающие в различного рода «профессиональных» поселениях, формируют цепочки поколений по династийному принципу, и уж если мы живём в эпоху Нового Средневековья, почему бы не начать с основного элемента – цеховой структуры? В «кластерах» станет гораздо легче реализовать как индивидуальные, так и групповые проекты, если ещё на стадии планирования будут учтены функциональные потребности того или иного вида исследований. Свободные от застройки зоны не могут привязываться, как в «спальниках», к «озеленительным» и «спортивным» потребностям населения, а должны представлять собой «цеха под открытым небом», исследовательские полигоны, где производится моделирование тех или иных процессов, производятся опыты.
Но можно ли, должно ли превращать поселение будущего в промышленную зону времён уже второй (высокотехнологической) индустриализации? И можно, и должно – если в каждом поселении основополагающую функцию возложить на дизайн, учитывающий свойства натуры. Не всем немедленно нужно в будущее, и часть поселений останется функционально «спальными». Возможны и градации поселений для тех, кто отдал жизнь самозабвенному труду, но не «дома престарелых», а целые города, где воспоминания будут переплетаться с мечтами, а обстановка располагать к честному закату судьбы, а не сознанию того, что всё утрачено навсегда. Эти места можно было бы назвать «станциями покоя» с элегическим, без претензий, но эстетическим оформлением зданий. Любой человек, испытывающий внутренний надрыв, будет способен удалиться в такое тихое место на некоторое время и восстановить внутренние силы и вернуться… или счесть, что сделал достаточно и возвращаться ему не стоит.
Архитектурный стиль никогда не берётся с потолка: он выражает характер, как почерк выражает пишущего. Говоря об архитектурном стиле России, нельзя не печалиться: дома массовых серий говорят скорее об утрате или полном стирании национальных черт. Катки глобализации проехались по нам в известном смысле гораздо раньше, нежели возникло само слово «глобализация». Пытаясь воплотить идею социального равенства, мы едва не помножили себя на ноль. Неужели ничего не осталось, кроме функционального антиэстетизма?
Началом процесса стирания национальных черт стал такой любимый в основном на Западе «русский конструктивизм». Человек Востока реагирует на гигантские плоскости «абсолютных форм» совершенно иначе: поделка кажется ему занятной, но претенциозной и совершенно не предназначенной ни для жилья, ни для работы. Для восточного сознания конструктивизм с его подспудной утилитарностью – что-то вроде абстрактной скульптуры, призванной продемонстрировать владение примитивными (сознательно упрощёнными) пространственными фигурами. Однако «плоды» стиля мы вынуждены пожинать и доныне: прижившаяся тенденция «голых форм», враждебная любому украшательству, дала возможность жилищному и капитальному строительству быть быстрым и совершенно бессмысленным. В постройки больше не вложено никакой идеи, кроме экспансии, захвата пространства под некие объёмы.
Давно отмечено, что чем дальше к северу, тем свирепее человеческая гордыня, и оттого становится отчаянно линейным архитектурный пейзаж. Русские дворяне, заставшие младенчество Санкт-Петербурга, равно поражались и изысканности, и эстетической невозможности его в русских землях, и куда охотнее предрекали ему исчезновение, нежели века славы. И до сих пор акт строительства Петербурга воспринимается насмешкой над здравым смыслом: империя пробует ощутить себя европейской и, внутренне ещё лубяная и ледяная, строит исполинский гостевой дом для приезжих коммерсантов – им-де в привычных координатах будет гораздо проще, и будут они потому несколько более сговорчивыми. Но западноевропейская мысль пришла к облику своих мегаполисов далеко не сразу, и некогда сам Париж напоминал безразмерное скопище трущоб, над которыми возвышалось два рода зданий – власти государственной и духовной. Но готические шпили кафедральных соборов нацелены в небо отнюдь не просто так, они – воплощённый вызов порядку вещей, нацеленные в небо копья и скорее угроза, чем торжество над законом всемирного тяготения. Чуть смягчённая романским стилем, западноевропейская культура почти не выносит изгибов: в них ей чудится коварство. «Четыре угла», на которые опирается западная «квартира» (да и русская изба), – основание такое же вековое, как и «анфиладное мышление»: чем дальше уходит (просматривается) перспектива, тем лучше, поскольку безопаснее: нападающего будет видно ещё на подступах. В то же время теснота замковых башен – плод прямо обратного расчёта, на ближний бой, и винтовые лестницы исключительно под правую руку обороняющегося сверху… Восток иной. Основанием стиля является не прямая и не угол, но окружность и дуга. Она просматривается даже в очертаниях Тадж-Махала, не говоря уже о мавританских дворцах и храмах. Дуга – первична, и потому первичен купол. Архитектурный облик России поэтому странен: от Запада мы берём линейную безликость и зачастую бессмысленность массовой застройки, а от Востока – традиционные «луковки» церковных куполов, но весь ансамбль уже распадается на отдельные части. Нет органики. И если в нас уцелело национальное самосознание, мы обязаны явить миру архитектурный синтез Востока и Запада, совместить прямую и дугу так, чтобы у измученного современного человека при взгляде на «русский стиль» ничего, кроме восхищённого вздоха и желания немедленно переселиться в Россию, и не возникало.
Установить корреляцию между понятиями «квартиры» и «дома» сегодня, в нашем крайне урбанизированном состоянии, довольно сложно: облик одной не всегда совпадает с абрисом второго, и оба начинают слегка зыбиться и двоиться, будто мираж. Картинки друг на друга не накладываются. «Квартира», судя по латинской семантике, представляет собой нечто четырёхугольное, где размещаются некие квартиросъёмщики, располагающие возможностями для украшения жилища мебелью, бытовой техникой и дизайнерскими ухищрениями (именно в такой последовательности, восходя по воображаемой лестнице потребностей от низших к высшим). Полагать «квартиру» домом возможно, однако есть основания и не соглашаться с данным определением: «дом» гораздо метафизичнее и уж точно ничего общего не имеет с многоквартирным «вертикальным бараком». Незабвенный Владимир Осипов (корреспондент ТАСС в Великобритании) пишет об англичанах так: «Врождённое стремление англичанина – не арендовать квартиру, а купить собственный дом (пусть даже в шеренге других) и непременно с садиком (пусть даже в этом садике не повернуться). Только тогда он будет чувствовать себя в своей крепости. Это даже не тяга к собственности. Это и психология, и умонастроение».
Отчего же русским людям и любым иным нациям в связи с турбоурбанизацией последних пяти-семи десятилетий отказано в подобной тяге? Революции и войны привели нас на грань выживания, ответят экономисты, но тяга последних двух веков к промышленному производству не только товаров, но и самих людей, – тот самый тяжкий грех, что позволяет проращивать нас как рассаду в «белых гетто» – зданиях исключительно функциональных. С какой же стати наши убежища (узилища) лишены и самых примитивных элементов декора, хотя бы простых узоров на фронтонах? На виллы по индивидуальным проектам средств жалеть не принято, и тем более не принято жалеть слов о человеческом капитале, «новой нефти», бесконечном ресурсе, возобновляемость которого – приоритет государственного развития. Так почему же «новая нефть» растёт в бесчеловечных по определению условиях, лишённая малейшей эстетики?
Ещё от курных изб известно, что дом растёт из бесплотности, от идеи. Если она улетучивается, мало что барак – образуется штрафной изолятор. Станем же ненадолго абсолютными идеалистами и скажем так: наши квартиры бездуховны, лишены идеального начала. В них вместо красного угла в лучшем случае – телевизор. Так жить, наверное, не стоит. Человеку должно быть куда не только преклонить голову, но и расположить своё духовное естество. Я не зря заговорил о молельнях, библиотеках и кабинетах – в городских квартирах обязано существовать хотя бы отдалённое подобие духовного зерна помимо средств массового вещания и пропаганды. Угол с иконами… скорее, требуется чулан, изолированный от мира, где за двойными (внешними и внутренними стенами) можно расположить кладовку – например, архив с вечно пыльными фотоальбомами, слайдами, дневниками живых и уже ушедших. Требуются не функциональные насквозь антресоли, куда нормальный человек лезет один раз в год за ёлкой и ёлочными шарами, но именно убежище и хранилище родовой памяти. Нарочитая плоскость сегодняшних шкафов-купе в таком ключе – просто декорация. Вспоминая же действительно впечатляющие образы дизайна жилых помещений, хочется напомнить о таковом в фильме «Одиссей» (1997): там дворец на Итаке построен буквально вокруг оливы: она прорастает сквозь потолок, выступая «первой иконой жизни», имеющей самое прямое и непосредственное отношение к своим хозяевам. Дерево – воплощённая память поколений, о нём им и заботиться, ему и поклоняться как святыне.
Конечно же, подражать Западу (или Востоку) сегодня – занятие пустое и отчасти губительное, поскольку каждое подражание обречено будет столкнуться с кризисом самоидентификации, вопросами «вглубь», содержащими бесконечное количество «зачем», не говоря уже «за чей счёт». Британия с её каминами, креслами-качалками, лестницами в спальни, в духе мансард скошенными потолками – только рекламный образ, но и за ним стоит любовь к пространству, которую мы понемногу утратили в годы утилизации святынь и самих себя. Русское бытовое пространство есть «покои» – так не подумать ли, где мы спокойны, в каких стенах, за какими преградами для посторонних? Каким должен быть вид сказочных «тесовых ворот»?
«Палаты» и «терема», которые мы видели дай Бог в этнографическом, а то и вовсе сказочном кино, – возможны вновь, стоит лишь захотеть:
– не конструктивистские колонны кладбищенского диабаза, с которых «ради простоты» ободрали и дорические, и коринфские капители, а русские балясины – столбы с утолщениями, по которым нас опознаёт, идентифицирует и воссоздаёт любая (!) нейросеть;
– не скопище наскоро сваренных железобетонных плит, но «новое узорочье», пусть пока и промышленных массовых серий, и изразцы, и наличники для каждого возводимого или реконструируемого здания – такая же необходимость, как проведение Интернета;
– не плоские потолки, но прозрачные, полупрозрачные, совсем непрозрачные, но изукрашенные изнутри звёздными узорами купола над мало-мальски значимым строением, и лепнина, и символические скульптуры;
– и не многоэтажка, и тем более не «человейник номер пять», а «львиный терем» или «соколиные палаты».
Возможность обретения себя через русский архитектурный стиль, пятиугольные в разрезе, словно советский Знак Качества, теремные пространства ещё сохраняется. Крытое крыльцо, навесы над хозяйственной частью двора – важнейшие элементы национальной матрицы, проступающие порой в коттеджно-загородной самодеятельности. Мало учредить на крохотной башенке флюгер в виде петушка – нужно, чтобы вместе с флюгером по ветру посмотрели и строения – и устремились. В древнерусском космосе устремляли – кони на коньках крыш. Об утрате, низвержении их пишет в «Пряслиных», пожалуй, самый горестный певец русской деревни Фёдор Абрамов.
Но каждый из нас обязан верить, что перепланировкой жилого фонда дело ограничиться не должно: если нам уготована ещё хотя бы тысяча лет и великих свершений, и всемирной славы, мы обязаны думать о том, какими явимся миру после периода нескончаемых ментальных и территориальных утрат, каких и в какой среде детей, внуков и правнуков способны вырастить.