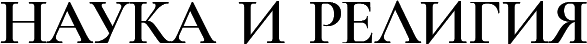Некоторые термины входят в наш повседневный лексикон так естественно и со столь малых лет, что задумываться об их семантике кажется излишним.
Вслушаемся: «заповедник», «заповедь»... А «заповедать», между прочим, равняется «запретить». Памятуя о том, что любая культура начинается именно с правила, и обычно именно запретительного, остаётся лишь удивляться тому, что советская власть, брезговавшая любыми предшествовавшими ей «терминами духовного свойства», не назвала заповедники, появившиеся незадолго до её возникновения (на рубеже прошлых веков), как-то иначе.
Меж тем «курук», обозначавший священный лес в Кокандском Ханстве, и точно такой же по смыслу монгольский «хорич» - ближайшие родственники русских «жальников» - лесов и рощ, в которых устным преданием всем запрещалось не только «производить работы» (рубить, жечь и т. п.), но и вообще появляться. Переступать в прямом, физическом смысле черту, за которой начинаются пространства исключительно мистические и настроенные к нарушителям своего покоя весьма сурово. Именно поэтому слово «преступник» - изначально из той же сферы, что и «заповедник».
Из Николая Рериха: «Может быть, ты знаешь, где тут поблизости имеются священные границы, которые ваши люди не осмеливаются переступать? Истинно, только признанные могут переступать эти границы. Разные знаки свидетельствуют об этих заповедных странах. Но даже без видимых знаков каждый почувствует их, потому что каждый приближающийся к ним чувствует во всём теле дрожание. .Один охотник был храбр и переступил эти границы и потом много рассказывал о чудесах за этими границами, но быстро умер».
Запреты преступать были столь жёсткими, что, по свидетельству Тацита, в древнегерманскую рощу Зонненвальд человек обязан был входить скованным цепями в знак признания своей низшей природы перед лицом божества рощи, а если человек падал, ему не разрешалось вставать, он должен был выкатываться из рощи по земле.
С чем связаны подобные «ритуальные излишества»? Конечно же, с невидимым, но более могущественным, чем видимое, духовным началом жизни, с тем самым проклинаемым советской властью «идеализмом», подразумевавшим самую непосредственную, прямую и грозную связь человека и природы, а также понимание, что практически ничего, кроме вреда, человек природе принести не в состоянии. Высшее начало пробуждается в нас только при условии запрета прикасаться к чему-либо, объявляемому священным.
По свидетельству византийского императора Константина Багрянородного, «пройдя Карийский перевоз, русы причаливают к острову, который носит имя Святого Георгия (Хортица. - С. А.). На этом острове они приносят свои жертвоприношения. Там стоит огромный дуб, которому они поклоняются, обвив его лентами».
Крестивший Русь князь Владимир Святой (Красно Солнышко) запрещает в уставе о церковных судах «моления в рощеньях» как противостоящие Христу. Меж тем именно священные рощи славяне-язычники называли Раем, укрывая его специальными оградами от «мира». Считалось, что каждый ступивший на священные земли может «утратиться» для мира, в некоторых случаях - умереть отнюдь не ритуально - «потерять себя», «обронить душу».
Славянский закон священных рощ мало чем отличался от общемирового: «заповедный гай» располагается неподалёку от селения на возвышенном месте и стережёт обычную жизнь. В них приходили не только молиться, но и судить-рядить. По особым дням в святых лесах девушки собирались на гадания о суженом, а молодые люди - на поединки.
Знаток русского языка и самой русской жизни Владимир Иванович Даль свидетельствует: «Заповедать лес, запретить в нём рубку - это делается торжественно: священник с образами, или даже с хоругвями, обходит его, при народе и старшинах, поют “Слава в вышних” и запрещают въезд на известное количество лет».
Что ж, выходит, что не так уж язычество и противостоит Христу? Один из наиболее авторитетных мировых фольклористов Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941) описывал священные рощи в Ливане следующим образом: «Никто не знает, когда, по чьему почину и по какому поводу они впервые сделались объектами религиозного культа. Некоторые из них посвящены патриархам и пророкам, небольшая часть - Иисусу и его апостолам».
Не странно ли слышать подобное? Честно говоря, не особенно: Христос вошёл в священные рощи уже тем, как священен для каждого христианина Гефсиманский сад, а в самом Ливане культ священного кедра (Хумбаба) нашёл отражение в начальном произведении всей мировой литературы, «Песни о Гильгамеше».
Отнять веру у целого народа, подточить его духовные устои не просто, но возможно, было бы желание. Отвадить от святынь, объявить их неистинными, поиздеваться над ними означает убить не только святыни, но и - духовно - их носителей. В этом смысле многие прошедшие через советскую эпоху так и остались нравственными инвалидами, лишёнными любого, кроме «классового», понимания вещей. Когда в России после революции вскрывали раки с мощами святых, пытались их «научно исследовать» и заявляли, что исследования ничего «святого» не обнаружили, происходила расправа над вековечным верованием, которую так и не удалось полностью забыть...
Уничтожение обычая - нематериального наследия целых культур и цивилизаций - стало решающим шагом на пути к абсолютной и бесповоротной глобализации всей планетарной жизни. Утрата олицетворённых обычаем и обрядом представлений о сакральной сути природы отрезает человека от окружающей среды, лишает его самостоятельности при выборе собственной судьбы, делает «зависимым от внешних поставок», и говорить о продовольственной и медицинской безопасности, накрепко увязанной сегодня, что в джунглях, что в мегаполисах, с неусыпной деятельностью транснациональных корпораций, просто бессмысленно.
Если бы эстонцы вспомнили, что их священные рощи - числом восемьсот, и это в сравнительно небольшой стране! - начали вырубать не русские ратники, а как раз крестоносцы в XIII веке, их отношение к Руси (да и к Германии) испытало бы, может быть, самые значительные коррекции.
И впрямь «что-то есть» в упрямой и пошедшей на убыль только в прошлом веке изначальной вере в священство деревьев. Когда мы небрежно роняем крылатое выражение «золотые яблоки Гесперид», знаем ли, что эта самая роща Гесперид была священной для всей Греции? А роща Дафна неподалёку, где прятались осуждённые, потому что по древнему закону там их уже преследовать не могли?
А кипрская роща Афродиты, куда вслед за добычей не могли проследовать и самые азартные не то что охотники, а даже чувствующие нечто высшее охотничьи собаки? Да, в священных местах времён античности на деревья вешались бронзовые гонги, и собак могли отпугивать именно громы, исходившие из лесных глубин, однако всё ли дело заключалось в пугающих звуках? Невольно вспомнишь церкви, в которых осуждённые за самые тяжкие преступления могли скрываться точно так же, как сегодня находят временные прибежища в посольствах других стран.
Блаженный обычай обозначить некие зоны, где не действует человеческий закон и только божеству позволено решать, жить ли грешнику или умереть! Мало кто знает, что столица Австрии Вена построена на месте священной рощи, от которой уцелел последний дуб, долго стоявший в самом центре города. Чуть восточнее, в польских «урочисках», брали и рассылали по всей стране ветви, укреплявшие дух народа при вторжении захватчиков.
Именно в священной роще принял смерть Гаутама Будда: «Затем он вернулся в Кучинагару и вошёл в рощу деревьев сал; здесь ремесленник по имени Чанда дал ему пищу, от которой ему стало плохо. Утром он повернулся на правый бок, головой на север, и деревья сал склонились над ним, покрыв его тело, в таком положении он и перестал дышать».
Цивилизационный переход от язычества к монотеизму, асинхронный, но удивительно последовательный, может быть связан с двумя поистине революционными изменениями образа бытия - оседлостью и завершившей её урбанизацией. Строительство городов не только вытеснило из массового сознания природу как изначальную сферу Творения, но и поставило на первое место в ней Единого Творца, Мастера, Инженера, по образу и подобию которого и возводились здания, и формировались их обитатели.
В сегодняшнем урбанизированном состоянии нам почти немыслимо ощутить природу как вечный храм, который мы сами от себя отстранили. Из «второй» (и уже основной для более чем половины населения развитых стран мира) природы первая смотрится не чем иным, как досадной помехой на пути победоносного цивилизационного хода. И лишь некоторые мыслители различают в непрестанных успехах технологического развития эсхатологические ноты: несмотря на увеличение средней продолжительности жизни, массовое избавление от примитивного ручного труда, особенного счастья городское население явно не испытывает. Укрывшись от непогоды за стенами типовых строений, нельзя не чувствовать, как перманентная подавленность становится профессиональным недугом, и даже искусно отделанные храмы не всякий раз отвечают на вопрос о смысле жизни.
Человек же природный, судя по всему, сетовал и недомогал куда реже и куда больше нас отдавал себе отчёт в смыслах и общих, и частных. Его Церковью был безбрежный мир, в котором им самим выделялись из сонма и одухотворялись лишь самые удивительные творения природы. Им он и молился - рекам и озёрам, пустошам и холмам, лесам и оврагам.
«Отождествление дерева и божества естественно привело к появлению нового образа - священного леса, который стал атрибутом религии не только древних греков, римлян и кельтов, но также и персов и многих других народов Азии, Африки, и Америки» - пишет французский этнограф Жак Бросс. По его мнению, именно священный лес стал «основным прообразом храма, где колоннами служили стволы деревьев, а христианские церкви и сегодня напоминают его своими сводами, полумраком и мягким, радужным светом, струящимся сквозь витражи». Подобная ассоциация - из разряда «художественных», доказуемых лишь эмпирически, однако правота её превосходит инженерные аргументы, согласно которым всякий свод нуждается в стволах-опорах, и ничего иного, кроме колонн, строители древности и придумать не могли. Что говорить о церковном своде, расписываемом под небо, в котором парят святые и сам Вседержитель?
Но некогда мир был иным настолько, что не нуждался в архитектурных стилизациях, а обходился при отправлении обрядов самым естественным естеством. И это была глубочайшая юность человечества. Древняя земля была покрыта густой сетью священных мест вне малейшей зависимости от классификации верования: природа умела убеждать людей, живущих в ней, что она заведомо могущественнее, чем они, и они подлежат ей и служат ей как самому первому божеству, и что она переживёт и их, и их деяния.
Поистине нет народа, не поклонявшегося лесу. Его сугубая таинственность, вызвавшая к жизни образ города как вечно бодрствующего скопления небоскрёбов, породила динамически меняющуюся иерархию оценки социальной ценности той или иной судьбы: если буквально двести лет назад каморка у крыши была обиталищем бедняка, то сегодня пентхаус на последнем этаже – признак неслыханного богатства. А священные рощи неведомым путём прошли сквозь все колебания социальных верхов и низов и уцелели до наших дней.
Веру в священство леса исповедовали древние германцы и кельты, индийцы и индейцы обеих Америк, аборигены Австралии и Африки. В Мозамбике священные рощи очень часто расположены по хребтам гор и подразделяются на несколько классов: кладбища, обиталища богов и духов, ритуальные места, исторические места и просто священные элементы ландшафта. И точно такое же типологическое разделение священных мест наблюдается у более близких нам географически народностей - камчадалов, дагестанцев и литовцев.
Российские исследователи В. Л. Огудин и Н. И. Суханова пишут о повторяющейся на разных континентах зональной структуре священной рощи. Практически в каждой из них по степени близости к святыне выделяются:
- область проживания рода, которому покровительствует божество (открытая для всех по определению);
- область моления божеству и жертвоприношений ему - также общая, для всего населения, включая гостей из других поселений на время общих празднеств;
- сфера сакральной чистоты, в которую нельзя вступать, не пройдя обряд очищения;
- сфера непосредственного влияния божества, в которую вхожи исключительно жрецы;
- полностью запретная зона, куда не вхож никто, включая жрецов.
Отечественный исследователь марийских священных рощ, доктор филологических наук Николай Морохин восклицает: «Приходя к этим деревьям, мы словно перешагиваем порог эпох. Мы оказываемся в другом времени. Эти островки леса никогда в человеческой истории не рубили. Заветлужским лесам от силы полтора десятка тысяч лет. Топор они познали в последние триста. Их вырубали полностью десятками квадратных вёрст, их выжигали. И настоящего первобытного леса в этом крае мы бы не увидели, если бы не Божьи леса. Потому это своего рода музеи таёжной древности. В их нехоженых углах лежит бурелом: его не полагается разбирать, выносить. Деревья рождаются, тянутся к свету, умирают, превращаются в труху и согревают собой новую жизнь. Это невозможные леса: они густы и непроходимы, в них соседствует несовместимое... Эти леса хороши - и величественны, и грозны, и дышат необузданной силой. В их густые заросли надо было ещё искать вход - как в дом».
О марийских и мордовских священных рощах ходили предупреждающие слухи ещё в Советском Союзе: горе легкомысленному партийному чиновнику, забредшему в такое место с недобрыми намерениями, а хуже того - приказывавшему изрубить волшебные деревья или сжечь их во избежание соблазна двух всесильных идеологий на одной земле. Рассказывали, что преданные исконной вере жители поволжских деревень не гнушались жестокими избиениями в ответ на подобные распоряжения.
Марийскую былинку «Почему кереметы в Кувербе не спилили» записал в начале 1990-х годов Николай Морохин: «В начале тридцатых годов сюда пришли колхозы организовывать. Один приехал из города на Кувербу, стал председателем. По дороге из Кувербы на Пижму у марийцев была священная роща. Вот председатель и говорит: “Мешает для обработки земли, давайте срубим её!”.
А дело на собрании было. Мужики молчат, председатель пальцем показывает: “Ты, ты и ты - рубить пойдёте!”.
Мужики молчат, не возражают. Но никто не выполняет. Потом месяц, что-ли, прошёл, он других назначает. Опять никто не выполняет. Это как же - кереметь рубить! Так он всё приказывал, всё назначал, а рощу никто не шёл рубить. Она до сих пор цела». Только вот история марийских, чувашских, мордовских священных лесов, несмотря на бодрые присказки, целиком трагична. От современных мордвин я слышал нелегко переживаемые внутренне фразы о том, что обряды, проводимые сегодня в священных лесах, представляют собой всего-навсего реконструкцию, средство привлечения туристов и не более того.
Как молиться в лесу? Что в нём алтарь, а что царские врата? Инстинктивно определяется центр леса как собрание наиболее старых деревьев, и среди них - одно, олицетворяющее Праотца или Праматерь Сущего. «Каждая деревня или село в Чувашии могло иметь несколько “священных рощ”, но лишь одно главное, на которое собирались в большие праздники даже жители соседних деревень. По большим праздникам, в дни поминовения умерших родственников все жители деревни собирались около керемети и возносили молитвы духам предков, в некоторых случаях приносили в жертву животное или закапывали около священного дерева в землю монетку» - так порталы кладоискателей цитируют этнографические исследования, упирая на мифические богатства священных рощ. Но главное сокровище их – вовсе не чеканенные кусочки меди, олова и даже золота, а мало чем измеряемая вера человека, его восторг и ужас перед бесконечностью бытия, содрогание перед бездной, из которой он выступил и вот уже снова обречён ступить в неё.
Японская заповедь о священных рощах звучит в пересказе американского поэта Гэри Снайдера так: «Никогда не рубите ничего; никогда не возводите ничего; никогда не утверждайте и не выясняйте ничего в святых природных местах, добираясь до научной истины; не разбирайте, не изменяйте ничего по той же причине. Не охотьтесь, не ловите рыбу, не причиняйте беспокойства, не поджигайте и не тушите горящее».
Особенно выразительно выглядит запрет на тушение священной рощи. Отчего бы не броситься с ведром воды, и не одним, если деревья объяты пламенем? Фатализм язычества, и отнюдь не только японский, запрещает влиять на небесную волю. На человеческую, с топором, пилой или винтовкой - сколько угодно, но не на Божественную. Если роща осуждена небом, а не подожжена смертным, ей не быть, а на её месте вырастет на пепле и золе новая, и могучий шелест её услышат лишь отдалённые потомки свидетелей пожара. Судить о праведности или неправедности такого взгляда на мир немыслимо, если мерить политеистическое начало «предрассудками» и «анахронизмами».
У моих армянских предков было принято по праздникам спускаться в подвал деревенского дома, где, вкопанный в землю, стоял «камень-крест» (хачкар), который отирали влажным полотенцем с особенным узором. Видеть в таком обращении с камнем языческое начало правомочно точно так же, как и прозревать христианское. Думается, что две этих линии, или, если угодно, благорасположения сознания, так и не расплелись, и суеверное и верующее остались едиными в натуре и иногда противоборствующими друг другу, а временами и подстёгивающими единое чувство благодарности судьбе за то, что она вообще состоялась.
Теперь, когда бездушное понятие «природоохранная территория» чуть ли не обозначает всю без исключения нашу якобы заботу о природе, кажется, следовало бы уяснить себе, что запрет на хищническое природопользование на уникальных территориях будет бездейственным, пока в людях не возродится понятие о священстве места их проживания. Возможно, только при возрождении давних понятий священных лесов, урочищ, рек и озёр придёт и понимание того, что неприкосновенность людского обиталища непосредственно и мистически связана с неприкосновенностью людей.
Сергей АРУТЮНОВ
Источник: «НиР» № 7, 2022