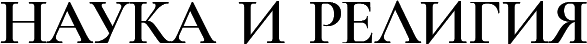Недавно увидело свет уникальное издание - четырёхтомный каталог «Художники Зарубежной России в искусстве книги: 1920-1970». Каждый том весит не меньше пяти килограммов! Но дело, разумеется, не в весе, а в бесценном содержании этих томов.
Книга рассказывает о 422 замечательных русских художниках, большая часть жизни которых прошла за рубежом. Они иллюстрировали произведения русских писателей и поэтов, которым тоже пришлось жить вдали от Родины, - Ивана Бунина, Алексея Ремизова, Николая Туроверова и многих, многих других. Среди друзей и знакомых Ренэ Герра, представленных на страницах книги, такие знаменитые деятели русского зарубежья, как Юрий Анненков, Марк Шагал, Сергей Шаршун, Павел Мансуров, Александр Серебряков, Ростислав Добужинский, Сергей Голлербах. Помимо иллюстраций в издании присутствует множество текстов, содержащих массу интереснейших сведений и фактов об этом периоде. Подготовил эту чудо-книгу не научный институт, не большой коллектив специалистов, как следовало бы ожидать, а один человек - известный (и в современной России, и во всём мире) французский славист, коллекционер, исследователь Серебряного века и литературы Зарубежной России Ренэ ГЕРРА. Ему помогала его супруга Ирина Палабугина. Попечитель этого замечательного проекта и издатель каталога - бизнесмен Балтабек МУКАШЕВ.
- Ренэ Юлианович, Вы доктор филологических наук, литературовед, автор более 40 книг и 400 статей по литературе и искусству, издатель, член редколлегии знаменитой «Русской мысли», и о Вас го¬ворят как о крупнейшем коллекционере. Но Вы сами предпочитаете, чтобы Вас называли собирателем. Я думаю, что Вы не только собиратель, а «охранитель» русского духа вне России. Это действительно более точное определение, если знать Вашу биографию. В XX веке русская культура оказалась разделённой, рассеянной по свету, и сейчас идёт процесс её собирания - это видно и по выставке Non/fiction, где представлено множество книг по Зарубежной России и эмигрантской литературе. В этом и Ваша прямая заслуга - ведь Вы многие годы собирали по миру свидетельства, материализованные в книгах, мемуарах, письмах, всё, что создано русскоязычной эмиграцией, и напоминали об этом всем. Ведь за пределами России существует огромная часть русской культуры XX века. Многие букинистические, редкие книги, выставленные на ярмарке, есть и в Вашей огромной библиотеке. Скажите, пожалуйста, собирательство это дар, потребность души или такая профессия, результат работы над собой?
- В то время, когда я начал собирать книги и архивы Зарубежной России, это было неактуально. Мне нравится слово «собиратель». Может, не очень скромное сравнение, но иногда я ощущаю себя Иваном Калитой, который, как известно, собирал воедино разбросанные русские земли. Я волею судеб стал общаться с русскими эмигрантами, причём тогда мне ещё не было и двадцати. Я начал говорить по-русски в двенадцатилетнем возрасте и вскоре хорошо им овладел благодаря общению и дружбе с русскими белогвардейцами, оказавшимися на Лазурном берегу. Они люди умные, и не случайно жили либо в Париже, либо в Ницце или Каннах. Я сразу понял, что это уникальные личности из другого мира, это была элита великой страны - Российской империи. Можно сказать, что встреча моя с ними была случайной, но, как известно, случайностей не бывает. Позже я иногда проклинал свою судьбу, что оказался в их среде, а большей частью - благодарил.
В 1963 году я поехал в Париж, чтобы учиться в Сорбонне, в Институте восточных языков и цивилизаций. Именно там расширился мой круг общения. Сначала это были офицеры царской армии и Белого движения. Потом появилось много знаменитых людей. Из писателей - Бо¬рис Зайцев, Ирина Одоевцева, Зинаида Шаховская, Гайто Газданов, друг Гумилёва Георгий Адамович, Владимир Вейдле. А ещё Роман Гуль, Юрий Иваск, Сергей Лифарь, Юрий Терапиано, Галина Кузнецова и многие другие! А художники - Юрий Анненков, Дмитрий Бушен, Сер¬гей Шаршун, Павел Мансуров, Александр Серебряков, Клеопатра Беклемишева, Сергей Иванов, Анна Старицкая... Сейчас они и в России наконец стали известными, а когда-то их имена гремели во Франции и в Европе. Я хочу, чтобы их знали и помнили на Родине. Не могу забыть встречи и вечера с ними в Париже, где бывали мои друзья: особенно часто я встречался с писателем Борисом Зайцевым, художником и писателем Юрием Анненковым, художниками Михаилом Андреенко, Николаем Исаевым, Сергеем Шаршуном. Потом были русские литературные вечера в Медоне, описанные Ириной Одоевцевой в книге «На берегах Сены», которые я устраивал уже у себя в доме.
Когда мне пытаются делать комплименты, что Вы, мол, лучший специалист по русскому зарубежью, я отвечаю: я не лучший, я единственный. А почему так, спрашивают меня? Отвечаю. Во-первых, заниматься творчеством русских эмигрантов тогда было неактуально. Во-вторых, когда в Сорбонне узнали, что я пишу диссертацию о Борисе Зайцеве, на меня стали смотреть косо. А ведь это был последний русский классик, друг Бунина, Ремизова, которого ценили все писатели-эмигранты. Он начал писать ещё в России, где у него вышел семитомник. Ни его, ни других писателей-изгнанников ни разу не пригласили выступить ни в Сорбонну, ни в Институт славяноведения, ни в Институт восточных языков.
А ведь они принадлежали к европейской культуре. Тот же Владимир Вейдле знал французский, пожалуй, лучше меня, правда, и я постепенно овладел русским языком не хуже, чем он.
Такое отношение к ним было связано с влиянием советской идеологии на местную левую, прокоммунистическую профессуру. Но я выбрал творчество Бориса Зайцева. Этим решением я поставил крест на своей карьере, причём по своему духу я не карьерист. Я во многом бунтарь, в моих жилах течёт кровь альпийских горцев, которые ещё в 1860 году отказались присоединяться к Франции несмотря на то, что большинство жителей было за. Это не моя заслуга, такой вот у меня свободный дух.
Когда я вошёл в круг этих знаменитых людей, писателей и художников, все они были поражены, откуда взялся этот молодой человек, литературный секретарь последнего русского классика Бориса Зайцева? Не буду скрывать, он иногда прислушивался и к моей точке зрения. Когда я начал у него работать, ему из СССР поступило предложение сделать однотомник. Он решил со мной посоветоваться, и я ему сказал: «Ни в коем случае». Потому что там обязательно будет предисловие, в котором напишут всякие глупости. И к тому же напечатают только то, что было издано в дореволюционной России. Я знал обстановку в Советском Союзе того времени - ведь я был стажёром-аспирантом в МГУ в 1968 году, и провёл там достаточно времени, чтобы понять ситуацию. Самое интересное, что в Москве я находил дореволюционные книги Зайцева в букинистических магазинах, они не были запрещены.
- Как получилось, что Вы в совершенстве овладели русским языком?
- Это вышло во многом случайно. Семья наша была интеллигентная, отец преподаватель немецкого языка, мама директор гимназии в Каннах. Однажды к ней на работу пришла пожилая русская дама и попросила дать несколько уроков математики её внучке. В обмен она предложила обучить её детей, то есть нас с братом, русскому языку. По-французски еле говорила. Мой старший брат отказался, а я согласился. И уже через два года я говорил по-русски, научился писать по старой орфографии, используя дореволюционную азбуку. Второй учительницей русского языка стала поэтесса Екатерина Таубер-Старова, которая получила место преподавателя в местном лицее Карно. Я был её любимым учеником.
Окончив Сорбонну и защитив кандидатскую диссертацию, в 1975 году я был приглашён в Институт восточных языков читать лекции о Иване Бунине, Борисе Зайцеве, Алексее Ремизове, Иване Шмелёве. Я продолжал расширять круг общения с белоэмигрантами. Потом мне это помогло написать книги о русских писателях и художниках-эмигрантах. У меня больше сорока книг, которые изданы и во Франции, и в России. Мои герои поняли лучше меня, что я останусь летописцем их судеб. Они меня любили, я очень им признателен за это и, конечно, за многое другое.
Но когда-то всё заканчивается, в 1972 году скончался Борис Зайцев, и за ним ушли Г. Адамович, Ю. Анненков, В. Вейдле, С. Шаршун... Но скажу, покинув Родину в начале 20-х годов, они сделали трудный, но правильный выбор, продолжая служить русской культуре. Никогда о возвращении в Советский Союз не было разговора, тема была закрыта, они просто наивно надеялись на перемены.
- Да, оттепель к 1966 году как раз закончилась.
- Когда я в первый раз в 1966 году посетил Москву в составе делегации французских студентов, за нами не особенно следили. Но когда я приехал во второй раз, в 1968 году, как аспирант МГУ, за мной была слежка из-за того, что я был секретарём Бориса Зайцева, то есть другом писателей и художников-эмигрантов. Кое-кого я в Москве сумел и успел повидать до своей высылки в начале марта 1969 года. По просьбе Зайцева встретился, например, с бывшим критиком журналов «Красная Новь», «Новый Мир», «Печать и Революция» Николаем Павловичем Смирновым. Виделся с буниноведами Александром Кузьмичём Бабореко и Олегом Николаевичем Михайловым. В один прекрасный день я поехал в Переделкино к Корнею Ивановичу Чуковскому, чтобы передать книгу Зайцева «Река времён», изданную в Нью-Йорке в 1968-м, с дарственной надписью автора. С рекомендацией от великого писателя Корней Иванович меня тепло принял. Для меня он был прежде всего замечательный знаток Серебряного века, который неоднократно писал о Борисе Зайцеве. Кроме того, он лично был знаком с Анненковым, Пастернаком, Солженицыным и другими. Но меня интересовал определённый период, дореволюционный, то есть Зайцев и его эпоха глазами Корнея Ивановича. Обо мне и моей позиции знали Корней Чуковский, Юрий Трифонов, с которым я познакомился в Париже.
- Я хорошо знаю творчество и мировоззрение Юрия Трифонова, поскольку писал курсовые о его городских повестях два года подряд. Наверняка ему был интересен молодой славист из Франции.
- Я с ним дружил. У меня хранятся его книги с дарственными надписями.
- А как складывалась Ваша жизнь и работа после всех сложностей, связанных с поездками в СССР в частности?
- В СССР я мог ездить только в командировки как славист. Никакие частные визиты не позволялись, а в марте 1969 года передо мной закрыли границу. Мне запретили въезд в Союз сроком на 15 лет. Объявили матёрым идеологическим диверсантом и антисоветчиком, и лишь потому, что я водил дружбу с белоэмигрантами.
Меня вычеркнули из французской славистики. Я стал изгоем. Я и не подозревал тогда, насколько презрительно и брезгливо относятся эти слависты, почти сплошь или коммунисты, или левые «попутчики», к Белой эмиграции и к писателям-эмигрантам, насколько их ненавидят, сознательно или подсознательно считая их отщепенцами и предателями. Ещё бы: ведь они «не поняли» и не приняли «великую октябрьскую»!..
Должен сказать, что многие мои коллеги радовались тому, что я отлучён от Советского Союза. Злорадствовали и называли меня «другом белогвардейцев». Потому что они-то были друзьями Советов. Во Франции и по сей день очень много прокоммунистически настроенных людей. В те годы я со своим интересом к творчеству русских писателей и художников-эмигрантов казался им, наверное, сумасшедшим. Мне говорили в глаза и за глаза: «Кому нужны эти люди? Их произведения? Они предали Родину!» А я знал, что эти люди - клад, и то, что они создали на чужбине, окружённые равнодушием, а иногда и презрением, и создали во славу России, - подвиг. Я не просто их уважал, я перед ними преклонялся. Никто из них не растерял своего таланта, не кинулся служить конъюнктуре ради лучших условий жизни. В Советском Союзе писали, что эти люди утратили свой талант, что в изгнании они прозябают. Чушь! Они продолжали творить! У Ремизова в эмиграции вышло 45 книг! Бунин свои шедевры написал во Франции: «Окаянные дни», «Солнечный удар», «Митина любовь», «Освобождение Толстого», «Жизнь Арсеньева», «Тёмные аллеи»... Борис Зайцев сам мне говорил: если бы не эмиграция, я бы повторял себя, стал бы эпигоном самого себя. Действительно, свои самые сильные произведения он написал в изгнании. Ещё пример - Георгий Иванов. Он, как и Константин Бальмонт, стал великим русским поэтом XX века благодаря эмиграции, благодаря выпавшим на его долю испытаниям. Эмиграция была оправдана и искуплена их великими произведениями. Всё-таки есть высшая справедливость. Она и в том, что их мечты вернуться на родину своими творениями осуществились. И в том, что я, оказывается, был не сумасшедшим, а ясновидящим: занимался не ерундой, а собиранием и сохранением бесценного творческого наследия русской эмиграции. И где сейчас те мои хулители, теперь кому они нужны?..
К сожалению, я был единственным французским славистом, который осмелился нарушить табу - общаться, встречаться и дружить с великими изгнанниками, которых мои коллеги-коммунисты игнорировали и презирали. Увы, я единственный живой свидетель русского Парижа. Десятилетиями я был на стороне побеждённых, и вдруг перестройка - и я оказался на стороне победителей.
- Задам вопрос, который Вам вряд ли здесь часто задают. Нашим читателям было бы интересно узнать, насколько религиозны были те деятели, которых Вы знаете? Что могли бы сказать о собственных отношениях с религией?
- Если говорить обо мне, я католик, и хотя тесно был связан с русской эмиграцией, не перешёл в православие, считаю, что веру и принципы менять не нужно. Моя вера не мешала мне любить русскую православную культуру. Скажу крамольную вещь: не вижу такой уж большой разницы между католицизмом и православием, разве что в догмате Филиокве (учение об ипостасном исхождении Духа Святого от Отца и Сына как от Единого Начала. - Ред.). А вот Русская эмиграция вся была православной. В Каннах на бульваре Александра III в русской православной церкви Святого Архангела Михаила настоятелем служил протоиерей Николай Соболев (1880-1963), офицер Донского казачьего войска, а регентом хорунжий Дмитрий Косоротов (1900-1980). С ними меня познакомила прихожанка этой церкви, моя учительница Екатерина Таубер. С 1963 по 1985 год настоятелем храма был Игорь Дулгов, с которым я дружил. Иногда пел в церковном хоре и играл в русском театре. В Каннах волею судьбы нашим соседом был князь Александр Сергеевич Гагарин (1879-1966), поручик Кавалергардского полка, адъютант военного министра. Он был церковным старостой этого храма и мне тоже давал уроки русского языка. Я провёл два лета (1962-1963) в русском лагере РСХД в Альпах, где познакомился и подружился с философом, богословом В.Н. Ильиным (1890-1974). Также был знаком и принимал у себя в Медоне поэта, архиепископа Иоанна Шаховского и даже помог издать в 1981 году его книгу «Переписка с Кленовским».
Да, все эмигранты были православными. В Ницце на улице Лоншан находится самый старый православный храм в Западной Европе. Он был освящён в 1860 году. А также Свято-Николаевский собор, освящённый в 1912 году. Нет более русского города во Франции и во всей Европе, чем Ницца. От Гоголя и Тютчева до Чехова - все бывали там.
- Есть мнение - кажется, его наиболее чётко выразил в своём «Незамеченном поколении» Владимир Варшавский, что эмигранты первой волны не были каноническими православными и много «блуждали» - к примеру, Дмитрий Мережковский, Юрий Терапиано. Вот дети их, осознав ошибки отцов, вернулись к твёрдой вере. Что Вы скажете по этому поводу?
- Владимир Варшавский был моим другом. Мы встретились, когда он работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, специально туда поехал, чтобы познакомиться с ним. Позже он бывал на литературных вечерах, которые я устраивал у себя в Медоне. Я хорошо знал, как Вы понимаете, многих представителей первой волны, снова перечислять их нет необходимости. Я могу ещё раз уверенно повторить: они все были православными, ходили в церковь, отмечали праздники. Для них православие было связью с Родиной, с родной культурой. Хотя они никогда специально на эту тему ничего не говорили. Их «блуждания» идут от широты души и богатства культуры, твёрдость веры остаётся... Так что я совершенно не согласен с мнением Варшавского на этот счёт.
Что касается Бориса Константиновича Зайцева, то он был верующим человеком, твёрдых убеждений, благожелательным, правильным, я бы даже сказал - праведным и верным до конца избранному пути. Он не был ханжой - с юмором, без прикрас и умолчаний рассказывал о своих славных современниках, в первую очередь об Иване Алексеевиче Бунине, которого он всегда высоко ставил в литературе.
Зайцев не только автор замечательных книг «Голубая звезда», «Путники», «Улица Святого Николая», «Анна», «Дом в Пасси», «Путешествие Глеба», «Река времён» и воспоминаний «Москва», «Далёкое», но и «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам».
Или возьмём Ивана Шмелёва. Мечтая о России и её прошлом, он пишет две по сути автобиографические книги: «Лето Господне» - хроника одного года, события в которой следуют согласно литургическому православному календарю, и «Богомолье» - рассказ о паломничестве, совершённом маленьким Ваней, alter ego писателя, который пешком отправился в Троице-Сергиеву Лавру близ Москвы. Эти произведения были написаны, соответственно, в 1928-1944 и 1930-1931 годах, и Борис Зайцев, Константин Бальмонт, Владимир Вейдле и даже требовательная Зинаида Гиппиус считали их лучшими творениями автора. Действительно, в каждом созданном в изгнании произведении, вплоть до его последнего, так и не законченного романа о «русской душе» «Пути небесные», читатель слышит обращение автора к «отсутствующей», но всегда «присутствующей России».
Могу утверждать как свидетель той эпохи - для них православная вера имела очень большое значение.
- По мнению многих русских священнослужителей, произведения ряда русских зарубежных священников и православных мыслителей, таких как Антоний Храповицкий, Константин Зайцев, Аверкий Таушев, Анатолий Грибановский, не опубликованы. Есть ли произведения этих деятелей в Вашем архиве?
- Мне сложно ответить на этот вопрос, я не богослов, и это не моя сфера, я собираю прежде всего литературу и живопись, хотя, конечно, кое-какие религиозные произведения и книги у меня тоже есть. Константин Зайцев, однофамилец моего старшего друга, рано умер, где-то на Востоке.
- Насколько известно, у Вас есть архив и Русской Зарубежной Церкви.
- Что-то есть, но у меня тонны разного материала. Эта часть попала ко мне, можно сказать, случайно.
- Насколько менялись у русских эмигрантов взгляды на жизнь и на ту же веру?
- Жизнь, конечно, менялась, менялась даже география, как мы знаем, вначале центром русской эмиграции был Берлин, где жили и ещё до революции бывали многие русские писатели и художники, тот же Андрей Белый, книги которого с его надписями у меня есть. Потом, когда берлинский период закончился, с 1925 года столицей Зарубежной России стал именно Париж, а не Прага, не Рим, не Белград. Люди, конечно, менялись, но православная вера в их душах оставалась. Это помогло им остаться русскими людьми до конца дней, а не раствориться в чужой культуре и жизни.
Но я ещё хочу сказать про мой четырёхтомник «Художники Зарубежной России в искусстве книги», представленный в Москве на выставке-ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Это результат многолетнего труда, долг памяти, труд всей моей жизни, и это я сделал для великих изгнанников. Очень благодарен моему издателю Балтабеку Мукашеву из Алматы.
- И напоследок... философский вопрос о будущем. Русские эмигранты наверняка много думали о том, каким будет выход России из коммунизма. Насколько ожидания совпали с реальностью? Говорят, даже Солженицын признал в конце жизни, уже вернувшись в Россию, что, мол, мечтали о том, как освободиться от Красного Колеса, а попали под жёлтое.
- Полагаю, что выход ещё не найден, и кризисы такого масштаба так быстро не заканчиваются. Всё-таки 70 лет тоталитарной власти не проходят бесследно, это четыре поколения, красный след на колесе истории остался, и никакая власть не сможет быстро преобразовать страну. Только постепенно. В этом смысле я не оптимист. А в России бывать люблю, с 1992 года участвовал во многих культурных мероприятиях, конференциях, книжных ярмарках и вместе со всеми надеюсь на лучшее.
- Большое Вам спасибо, Ренэ Юлианович, за эту беседу. Мы предлагаем Вам вести у нас в журнале постоянную колонку - Вам есть что рассказать широкому читателю. А может быть, будете публиковать материалы из Вашего архива? Это интересно и нужно всем.
Беседовал Сергей Ключников
Источник: «Наука и религия» № 1, 2022