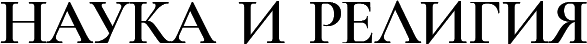Многие уникальные экспонаты из собрания музея-заповедника «Абрамцево»
наталкивают на размышления о пути развития русского народного искусства и о том, как оно, незаметно для нас самих, оказывается вшито в нашу ДНК...
Не думал не гадал, что когда-нибудь буду с такой теплотой воспоминать артефакты, на которые в мальчишестве внимания почти не обращал. Фиксации сознания на народном искусстве в начале 1980‑х годов не способствовала сама советская идеологическая парадигма, диктовавшая уступительно-отстранённое отношение к дореволюционному быту. «Основные достижения социализма» стремились оттеснить его на задний план: великолепные творения народных мастеров называли искусством подневольным, зависимым и крепостным, творчеством с несчастной судьбой, тянущейся к небу, но не достигавшей его. Над изукрашенной лошадиной упряжью или ложками-поварёшками полагалось несколько снисходительно или сочувственно погрустить, отдав им «должное», но вслед за тем незамедлительно проследовать в иные залы собрания… Но эти предметы знакомы мне с детства, и именно они, как выяснилось много позже, особенным образом сформировали моё внутреннее естество.
***
Семь лет подряд мы снимали на лето комнату в Хотькове, на улице Калинина, у двух пожилых сестёр, Валентины Григорьевны и Елизаветы Григорьевны. Валентина, проработавшая долгие десятилетия сельской учительницей, была уже на пенсии, но неукоснительно и строго ходила в должность смотрительницы музея-заповедника «Абрамцево», в павильон «Советское изобразительное искусство» (тот, что с колоннами и когда-то был корпусом советского пансионата).
Постепенно из рассказов её сформировалась в сознании поистине величественная картина: собравшиеся в Абрамцеве, в имении купца Саввы Ивановича Мамонтова, интеллигенты (а место было ещё аксаковским и гоголевским) были буквально одержимы модерном как попыткой основать совершенно новое изобразительное искусство с национальными корнями, органически впитывающее опыт всех предыдущих поколений. Прямо как марксизм, претендовавший «обобщить все знания человечества». Если же обойтись без иронии, их усилия привели к созданию компактных центров ремёсел, работа в которых кипела не один год. Результаты явлены сегодня собранием, большая часть которого бережно хранилась в запасниках, но и то, что экспонировалось и экспонируется, – настоящее чудо. Я бы сказал, что Савва Иванович произвёл с нашей культурой действительно революцию ещё до всех революций, но прежде всего – со своими подопечными. Идеи его произвели такой же эффект, как «могучая кучка» наших великих композиторов, собравшаяся для утверждения русской ноты в мировой музыке.
Образование русской элиты на европейский лад было по-своему блестящим, но с мальчиками и девочками из дворянских семей часто случалось так, что народное доходило до них от кормилиц и нянек (как с Пушкиным), а дальше их учили исключительно французы и немцы.
Если после университетов и армейской службы вышедший в отставку или продолжавший служить помещик и вникал в дела имения, то снова через «немца-управляющего». Отсюда, надо думать, и рождалась жажда лучших представителей сословия узнать, а что, собственно, представляет собой тот народ, из которого они вышли и в дела которого особенно не входят, если речь не заходит ни об оброке, ни о барщине, ни о дрязгах внутри общины.
Мамонтов явился, как сейчас бы сказали, «точкой сборки» любопытства, возникшего в среде изобразительной. Слова Васнецова, сказанные в те годы, образуют собой полную и законченную концепцию всего мамонтовского кружка: «Мы только тогда внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда все силы свои устремим к развитию своего родного русского искусства, то есть когда с возможным для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов – нашей русской природы и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши грезы, мечты, нашу веру – и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное, непреходящее».
***
Я не только ловил бычков в «поленовском» пруду, был допущен в «Избушку на курьих ножках», построенную по проекту Васнецова. Валентина Григорьевна упросила других смотрительниц дать нам ненадолго подержать в руках вещи, которые Васнецов и Репин выкупали у крестьян, и не только деревень Быково, Хотьково, Ахтырка, Васьково или Радонеж, но и везде, где им случалось побывать.
Вот лишь несколько тех впечатлений применительно к экспонатам, доступным всем нам и сегодня.
«Репиховская доска». Первый экземпляр абрамцевской коллекции – поразившая всех членов мамонтовской «экспедиции» благородством узора фризовая доска, украшавшая одну из крестьянских изб в деревне Репихово. С той прогулки, окончившейся покупкой фриза (вырезаны на нём были листья и ягоды земляники, но в необычайной гармонии), и началось страстное собирательство всего, что могло бы говорить о духе народном и о мастерстве принципиально анонимных, не жаждущих никакой славы, кроме доброго взора потомков, мастеров.
В следующей экспедиции, в Гефсиманский скит, были выкуплены резное настоятельское кресло работы XVI века и старинный свечной стол «трёхгранно-выемчатой резьбы», поставленный в абрамцевской церкви. А вскоре после первых восторгов и удивлений стало известно, что в окрестностях Абрамцева школа резьбы по дереву просияла ещё в XV веке, когда в Троицком монастыре (теперь – Троице-Сергиевой Лавре) начал работать инок Амвросий. Братины тамошней братии обрели в России законное имя «троицких», и то же самое имя собственное было присовокуплено резным игрушкам. Торжественно изукрашенные задки телег, замыкающие собой тыльную часть кузова, многое говорящие и о хозяевах, и даже о назначении конного экипажа, приобретались художниками по всем губерниям. Ростовские и ярославские, владимирские и суздальские, боголюбовские и саратовские – все они радостно пополняли коллекцию и если свидетельствовали, то о том, что любая часть национального быта осмысленна и несёт в себе идею перемещения в пространстве как физическом, так и метафизическом.
Солярные символы задков русских телег не исходят от свастики: их лучи не собираются в направленные угловатые пучки, а пребывают в пространстве световых потоков, характерном для французского импрессионизма Сезанна или Дега. Это, несомненно, волновая реальность – частиц, что сродны с нейтринными выбросами далёких звёзд, наслаивающимися друг на друга, словно бы говорящими о множественности миров. Рыбы и птицы окружены на них сакральными шестиконечными звёздами, оплетёнными косицами или, возможно, металлическими цепями, связующими события мира воедино. Деревья, несравнимо более мелкие, чем живность, напоминают ископаемые хвощи и плауны.
Не родилось бы, наверно, ни одного промысла ни в России, ни за рубежом, если бы чувство безымянных мастеров было всецело утилитарным.
Вальки и рубели. Крестьянские женские орудия для «ручной сушки» белья совсем неспроста изукрашены геометрическими узорами, соответствующими взаимно противоположной направленности тканевых стежков. Такие узоры не нарушат целостность холстов, сберегут их на несколько поколений вперёд.
Но одновременно в узоре наблюдателю открывается безграничный космос одинаковых ячей, подобных пчелиным сотам, в которых будто бы одинаковое и идентичное себе самому приобретает характер повтора, готового вот-вот нарушиться, каждый элемент которого неуловимо отличается от каждого предыдущего, и кажущаяся монотонность Вселенной предстаёт вечно новой и каждый миг порождающей саму себя заново.
Ковши козмодемьянского типа. Потемневшее будто «под бронзу», тщательно отполированное и инструментами, и самим временем дерево, витые узорчатые рукояти – таковы эти ковши. Надо сказать, что типология русских ковшей чрезвычайно богата – московские и тверские, вологодские и северодвинские, но козмодемьянские – статья совершенно особая. Видится в нём некий Русский Грааль, прообраз Чаши Братской («братины»), но более всего узнаются они по окончанию рукояти – коню стилизованной формы, а в более радикальных стилизациях – мамонту или зубру. Гладкий конь без выделения гривы, хвоста и глаз – явный символ, и будто бы для маскировки или отвода глаз обращён в детскую качалку (стоит на полукруге). Но даже в смысле, слегка сниженном добродушной усмешкой мастера над судьбой, конь нашёптывает о том, что видимый круг жизни замкнут единым волновым процессом, и сам по себе мало что говорит о своей сути, а жизнь может являться некой игрой высших сил, обуздание которых принципиально не во власти человеческой.
Но как же с иными? Сам ковш порой – конь, поджавший ноги, и ручки его – голова и хвост, и весь объём чрева его отверст пьющему, и древняя мистерия вновь создаёт подобие – и питие, и езда верхом предстаёт единым причастием чему-то непостижимому, не называемому во избежание уплощённой профанации.
Нельзя представить себе подлинно традиционный русский оконный наличник не столько без растений, сколько без священных птиц – сиринов, гамаюнов и алконостов, изяществом линий в некоторых вариациях напоминающих египетских ибисов. В клювах многие из них держат и грозди вить, что именно, пока не обратишь внимания на форму листа: она преимущественно всё-таки виноградная и, значит, заимствованная у персов и более давних народностей до самых финикийцев, положивших начало алфавиту.
Гусары и барыни. Мне вряд ли удастся забыть одну из миниатюр – молодого солдата, опирающегося на небольшую колонку. Высокий, голубоглазый, кудрявый (из-под небольшой бескозырки) юноша в широких брюках с мечтательным взором не мог быть использован для собственно военной игры – резчик изобразил здесь поистине бессмертную свою душу, и совершенно притом безоружную.
Барыни – продукт более поздний, чем романтические солдаты, властно призывающие эпоху модных журналов: игрушки выточены со знанием столичных мод, и сами выражения куколок умильны почти шаржировано – девицы улыбаются словно бы вынужденно, «из этикету», но в слегка напряжённых позах, в них таится лёгкая грусть. Фигурки выражают сколь приподнятое имущественное положение персон, столь и искусственность всего положения «барынь». Насмешка читается почти сразу.
Кикимора и шишига. Деревянная кикимора – пáрная к шишиге – напоминает представителя крупного рогатого скота, но с львиным торсом и человеческим ликом. Шишига же – явный лев, одетый в подобие брони. Подобная манера говорит о весьма малой дистанции между графикой заглавных букв в первых русских летописях и средневековыми бестиариями, где «единороги» и «девы-обезьяны» органически соседствовали со слонами, страусами и леопардами.
Бурачки, кузовки и туеса. Берестяная посуда для ягод, круп или иных «мелких сыпучих грузов» напоминает у нас греческие краснофигурные вазы: сурик и сажа. На иных водят хороводы крестьянки первой половины XIX столетия, современницы Пушкина и Гоголя.
Забавна солонка – крохотный, толстостенный, испещрённый почти каббалистическими знаками коробок с символически открытой – а на самой деле изначально откинутой и не закрываемой – крышкой. Как бы сказали профессиональные плотники, «выточено из единого массива». Петли «крышки» – лучи солнца.
Печные изразцы. То, что всегда вводило лично меня в некоторый ступор, – сюжеты и надписи на печных изразцах XVIII столетия. «Китайской старшина» (изображён обычный бородатый славянин с палкой и в непомерно утолщённой гражданской шляпе с полями в сопровождении юноши в тюрбане). «Нечто думаю про себя» – несомненный Пушкин, вплоть до черт лица, одеяние вольное, напоминающее облачение с иллюстраций Доре к «Божественной комедии».
Подлинной виртуозности достигают попытки абрамцевских мастеров изготовить авторские, как бы сейчас нарекли их, шкафчики – те вместилища хозяйственных мелочей, которые можно с натяжкой назвать «аптечками».
«Шкафчик для писем» (автор эскиза – Елена Дмитриевна Поленова, родная сестра Василия Дмитриевича) украшен цветами мезозойской, если не палеозойской эры. Вместо бутонов – крупные, гранёные семенные коробки. На её же шкафчике «Камин» – растения, напоминающие взлетающие ракеты самого начала космической эры. Пара грифонов подпирает верхнюю горку буфета «Теремок», венчаемую вещей белкой.
***
Особенно впечаталась в сознание Её Величество Ступа. «Хочешь посмотреть, на чём Баба-Яга летала?» – спросила Валентина Григорьевна. Что за вопрос! В узкой ступе, выдолбленной из цельного ствола, вряд ли бы кто-то смог летать, потому что вряд ли поместился бы в неё даже одной ногой. Потому и торчала оттуда вовсе не бедренная кость великой колдуньи, а длинные пестики, напоминавшие более всего исполинские скалки.
Что же толкли? Просо, овёс… какая, в сущности, разница, хоть бы и рожь с пшеницей для толокна. От ступы пахло самыми отдалёнными годами, и вся она казалась воплощением и сказки, и были, и уже представлялись вокруг неё фигуры в белёных рубахах до пола, волхвующие, поющие что-то тягучее, но не тягостное, поминутно вздыхающее и набирающее в грудь воздуха для следующего грудного женского вздоха.
***
В музеях помладше (русского деревянного зодчества в Суздале или, например, в Мышкине) собрания достигают сотен и тысяч единиц хранения, но мне не перестаёт казаться, что в абрамцевской «Бане-теремке» или гончарной мастерской им позволено дышать чуть вольнее и чуть индивидуальнее, чем в масштабных тематических экспозициях…
Впрочем, не стану умалять несомненных достоинств иных коллекций – мне ближе та, которую осязал, обонял и «присвоил» как достояние личной памяти ещё в детстве. На ней в те годы был завязан Валентиной Григорьевной узелок, определивший место народного искусства в интимной архитектонике приоритетов: оно оказалось и близким, и далёким одновременно, но больше, конечно же, близким, зовущим, баюкающим и пробуждающим от хамского невежества и снобского высокомерия.
Сергей Арутюнов
Источник: "НиР" № 5, 2022